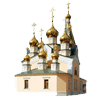  |
Школа сострадания Фредерики де Грааф
Фредерику де Грааф, врача-рефлексолога Первого московского хосписа, автора книги о помощи умирающим «Разлуки не будет», ждали с нетерпением. За четыре дня пребывания в Якутске гостье буквально не давали ни минуты отдыха. Две лекции, посещение хосписа, встреча со студентами семинарии и волонтерами… Ее опыт – настоящее сокровище, которое может пригодиться каждому: медику, родственнику больного, добровольцу, помогающему в хосписе или больнице.
Фредерику, пришедшую в Православие в сознательном возрасте, отличает глубокая, по-настоящему церковная вера. В Церковь ее ввел выдающийся богослов и проповедник, уже сейчас многими почитаемый как святой, митрополит Сурожский Антоний (1914-2003).
Мы рады предложить тем, кто не смог услышать и увидеть Фредерику де Грааф лично, ее лекцию «Как работать с людьми, которых нельзя вылечить», прочитанную в рамках XII Республиканских Рождественских образовательных чтений 12 декабря 2016 года в Якутской духовной семинарии.
Плакать с плачущим
Я летела в самолете и с интересом читала лежавший там журнал. Одна женщина рассказывала в нем: «В Арктике и в Якутии живут счастливые люди, которые научились быть выше своей судьбы». Об этом я хотела бы с вами поговорить, потому что когда человек серьезно болеет и стоит перед смертью, у него есть выбор – быть жертвой или захотеть чему-то научиться. Говорят, что здесь, в Якутии уже знают, что надо жить выше своей судьбы, выше своей болезни, даже выше своей смерти.
Я хотела начать с очень трогательного для меня рассказа, который я читала недавно. Был конкурс среди маленьких детей четырех, пяти и шести лет. Их спросили: «Что такое любовь?» Все ответили по-разному. Выиграл соревнование мальчик, о котором мама рассказывала следующее. У них был сосед по двору, старик. Потеряв свою жену, он плакал и плакал. Увидев это, четырехлетний мальчик вошел к нему в дом и долго-долго не возвращался. Когда он вернулся домой, мама его спросила: «Что ты делал?» Он сказал: «Ничего». – «Что ты сказал?» – «Я ничего не сказал, я просто сидел у него коленях и дал ему поплакать».
Я думаю, что это суть нашего служения – позволить человеку, который горюет, быть в состоянии молчания, ничего не говорить и просто быть таким, какой он есть. Если он хочет плакать, дать ему поплакать.
Преодолеть страх смерти
Страх смерти есть везде – в Англии, в Голландии, особенно в России после 70-ти лет коммунизма. Недавно мне кто-то говорил, что генетически страх смерти очень велик, и он остается с нами даже в старости. Я полагаю, что это тоже важно учитывать, когда мы встречаемся с болеющими людьми.
Я часто буду цитировать митрополита Сурожского Антония. Он сам в течение двадцати лет читал лекции про смерть, умирание, страдание в очень крупной больнице в Лондоне. Там тоже очень развит страх смерти – думаю, он возвращается, потому что материализм и благополучие усиливается, и от этого страх смерти не бывает меньше.
Владыка Антоний говорил: «Страх смерти охватывает нас в первую очередь изнутри. Страх смерти поддерживает общество, не потому что оно хочет, чтобы боялись смерти, а именно из-за нашего нелепого к ней подхода. Смерти нужно вернуть ее значение – рождение вечной жизни». Он говорит, что действительно для него смерть не конец. Иногда его упрекали в том, что он слишком легко относится к ней. Это не так. Он видел ее трагичность, но он также говорил, что общается с людьми, которые уже перешли туда – настолько явно для него это было.
Однажды он мне рассказывал, что один его друг умер и, явившись ему, сказал: «Я пришел к тебе, чтобы проститься с тобой». А через несколько месяцев после смерти моей мамы он просто мимоходом сказал: «Ты знаешь, я каждый вечер молюсь, чтобы она тебя охраняла. Почему я это делаю, не знаю. Но она до того жила», – и пошел дальше.
Владыка говорит: пока мы не даем смерти – не реальной смерти другого человека, а нашей смерти, что мы все умрем – места в нашей жизни, не принимаем ее, мы не можем помочь людям. Мы можем только делать вид, что мы помогаем. Снова цитирую: «Вовсе не роскошь разрешить проблему смерти. Человек, который боится смерти, боится жизни, потому что он говорит – невозможно не боятся жизни со всеми ее сложностями, опасностями, пока у нас есть страх смерти».
В хосписе, где я работаю, люди очень хорошо умеют встретить смерть, но это смерть другого. Стоит только случиться, что умирает кто-то близкий умирает, и это совсем иное. Между тем, не должно быть такой большой разницы между другим человеком и моей смертью или смертью близкого. Если вы ничего не вспомните о нашей сегодняшней встрече, постарайтесь найти ответ на вопрос: что я думаю о смерти и страдании? Когда они будут уже перед глазами, думать об этом будет поздно.
Защита от страха
Пока у нас есть страх смерти, у нас есть неизбежные многочисленные защиты – защиты против боли, против горя, нежелание быть серьезным, болтовня… Физических защит тоже бывает много. Медсестры часто говорят: «О, болит голова. О, спина болит, я не могу сидеть. О, еще надо много делать – надо чистить пол, надо курить, надо кофе пить и так далее», – это защита против того, чтобы пребывать с человеком, которому плохо.
Я думаю, что честность – это очень важно. Если мы увидим, что у нас действительно нет желания быть со страдающим, мы поймем, что мы можем с этим сделать.
Защита касается и священников. Мы все прячемся за роль. «Я священник, я буду делать то, что надо – я стою немножко подальше, и я буду побыстрее, может быть, не очень внятно читать молитвы на исход души. Я делаю все, что надо».
На самом деле, я думаю, если бы владыка здесь был, он просто бы сел рядом с человеком не как священник, а как человек с человеком, чтобы сначала узнать, кто он, что он любит, какая картина его жизни. И потом уже он может попросить: «Давайте помолимся». Когда я спрашиваю пациентов нашего хосписа: «Может быть, позвать священника?» - все отвечают: «Нет, нет, я еще не умираю!». Священника очень часто воспринимают как вестника смерти, и здесь надо быть очень чутким.
Врачи тоже часто прячутся за роль. Они очень важные, они знают, что надо мерить давление и так далее. Но не это первое, что нужно для пациента, который ложится в больницу-хоспис. Важнее всего просто посидеть рядом с ним и помолчать, когда он будет говорить. Но это требует от нас открытости сердца и освобождения от наших защит. Пока у нас есть защиты, мы не можем быть внутренне спокойны, у нас нет внутренней устойчивости. Внутренняя устойчивость – это равновесие перед страданием и горем, особенно когда это касается детей. Этому очень важно научиться.
Быть рядом
Может быть страшно, но я могу притвориться, что я не боюсь, и что я буду ходить как священник, как врач, как медсестра, соцработник и так далее. Но по моему опыту больные становятся очень чуткими: они читают нас как книгу, даже если мы не говорим, они видят, что где-то глубоко в нас спрятан страх. Они видят это не через слова, а через коммуникации тела. В коммуникации очень мало, всего 7%, передается через слова, остальное через необычное взаимодействие – через тон голоса, через глаза, через то, что вы быстро уходите, через несерьезность, через посматривание на часы. Владыка мне всегда говорил: «Если ты, находясь с человеком, будешь смотреть на часы – считай, что всё сходит на нет, потому что тогда человек знает, что ты не с ним». Сейчас я с болью вижу, что очень многие медсестры и врачи смотрят на айфон. Во время обхода звонит телефон, и они извиняются: «Я сейчас отвечу, потом продолжим». Но это сводит весь обход на нет! Человек там лежит, старается говорить, что лежит на душе – и вдруг что-то мешает. Это стало уже естественным, что телефон важнее, чем встреча с человеком. Я считаю, что это зараза нашего времени.
Больной человек, видя, что этот врач или эта медсестра сами боятся, замыкается. Замыкаясь, человек оказывается один на один с собой. А у него тоже есть свои страхи, и он еще больше замыкается. Вы сами знаете, когда есть страх, всё съеживается. Представьте: у вас есть боль и еще ужас – и боль усиливается. У вас есть одышка и еще страх – еще хуже становится, и одышка становится хуже.
Не только у врачей и медсестер – у родственников тоже есть страхи. И все это переливается на человека, который сам боится. Владыка говорил, что надо смотреть в лицо: я тоже умру, я тоже могу там страдать или задыхаться и так далее. Это крайне важно, потому что мы тогда говорим не над человеком, а рядом с человеком, как человек с человеком. Мы можем, конечно, профессионально дать лекарства и уколы и так далее, но если нет встречи, то уже медицина не играет никакой роли.
Пять фаз умирания
В середине прошлого века в Америке была такая психотерапевт и психиатр Элизабет Кюблер-Росс. Она встречалась с очень многими людьми, потерявшими своих близких – не только в борьбе с раком или другими болезнями, но и погибших в авиакатастрофах, в самоубийствах и так далее. Она собрала очень много людей, и они поделились своим опытом. Собрав этот колоссальный опыт, она говорит, что когда человек стоит перед кризисом, перед смертью, умиранием и серьезной болезнью, есть пять фаз. Они не обязательно чередуются по порядку, но обязательно возвращаются.
Первая фаза: не может быть, это не я, это плохие врачи, это не моя история болезни, дайте другое лечение! Человек не может понять: это касается именно меня.
Вторая фаза: если я сейчас брошу курить или побегу собирать деньги, чтобы построить часовню, может быть, я не буду болеть – сделка с судьбой или с Богом.
Третья фаза: человек думает: «Ничего не помогает». Отчаяние. Человек думает: «Я действительно стою перед болезнью и перед серьезной болезнью, может быть, перед смертью».
И еще две фазы – надежда и примирение. Примирение обычно пассивно. Владыка говорит, что есть важная разница пассивно принимать или активно, творчески принимать, что есть. Пассивное бывает от усталости или фатализма: «я не хочу бороться». Владыка говорит, что болезнь нам – это не кара Божия. Почти все люди, заболев, спрашивают: «Зачем? Почему?» Но дело не в этом. Они не хотят ответа. Это просто отчаянный крик души: «Я не ожидал, что это со мной будет». Такая постановка жертвы.
Человек умирает единожды
Мы можем механически быть «добренькими», улыбаться. Сотрудники хосписа или больницы часто говорят: «Укольчик, давайте поворачивайтесь!». Во-первых, в этом нет уважения. А перед врачом или сестрой не кошечка, а женщина, обычно старая, у нее есть свой опыт жизни. Я как акупунктурист, врач-психотерапевт сижу с больными долго, почти 30-35 минут с каждым человеком. В каком-то смысле я на уровне больного. Я вижу, что значит для человека, когда заходит медсестра или врач: «Укольчик!» Я смотрю на больного: это не укольчик для него, это укол, и он боится. Нужно быть очень чутким, понимать, что это значит для человека – и опасаться механических действий. Это трудно, когда много больных, но этот больной, который перед нами, он единственный раз так болеет, единственный раз так умирает. Это надо постоянно держать в памяти.
Я однажды спросила у владыки: «Как быть, когда тридцать человек, и все хотят твоего внимания?» Он меня понял. Когда он сам был врачом и начал принимать людей, он подумал: «Еще двадцать человек ждут меня. Побыстрее, побыстрее!». В конце дня он понял, что никого не вспомнил – ни лица, ни диагноза. Будучи очень дисциплинированным человеком, он пообещал себе: «Я буду стопроцентно хотя бы две-три минуты быть с этим человеком. Все мое внимание – на него». Эта тренировка стала для него естественной. Он мне говорил: «Научись быть с этим человеком стопроцентно, дай ему несколько минут своего внимания, и он будет знать, что ты его увидел, что он существует для тебя». Когда человек знает, что кто-то его увидел, он может начать поправляться. Ему можно честно сказать: «Знаете, у меня еще есть двадцать других людей, за которыми я должна ухаживать, но я вернусь в конце дня к вам». Он не будет просить больше и больше внимания, потому что он узнал, что есть один человек, для которого он важен. Я думаю, что уникальность человека – это особый такт. Мы же верующие. Мы помним, что в каждом человеке есть образ Божий.
Школа сострадания
Когда у нас нет или по крайней мере намного меньше страхов, мы можем научиться состраданию. Сострадание важнее, чем лекарство. Владыка говорит об отношении врачей, медсестер или священников: «В основе отношения врача к пациенту, в проблеме болезней, во всей этике и философии медицины лежит сострадание – чувство солидарности и уважения, и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед нами. Но сострадание, – продолжает владыка, – это не жалость».
Мне кажется, жалость – это дешевка. Жалость – это отношение немножко надменное, с высоты, в своем роде я думаю, тоже защита: быть не рядом, а над человеком. Владыка рассуждает так: «Сострадание – это не жалость, это способность со-страдать, понести страдание вместе с другим человеком, разделить чью-то муку, боль. Мы не можем поставить себя на место другого человека и в полную меру пережить его или ее страдание. Мы не можем дать этой чужой боли пронзить наше сердце, чтобы страдание, которое происходит у нас на глазах, потрясло нас до самых глубин, но для этого у нас должно быть открытое сердце, сердце, готовое быть уязвленным и раненым, и мы должны сами быть готовы на страдание». Владыка говорит, что мы не можем и не должны вызывать в себе чувство боли и слез вместо человека, но наша задача быть такими открытыми, чтобы в нашем сердце и в нашей души жила боль о страдании ближнего.
Два раза в месяц владыка проводил беседы на английском и на русском на разные темы. Я приходила на эти беседы. И однажды я увидела, как он смотрит на сидящего за мной человека. Я никогда в жизни не видела такого сострадание в глазах. Мне внутри стало даже жутко! Обычно он так не показывал, но, наверное, человеку позади меня было так плохо, что я просто не могла себе найти места, не могла смотреть в глаза владыки. Между ними происходило что-то почти интимное. Владыка почувствовал, что я это видела, и просто кивнул головой: все в порядке. А я даже не могла посмотреть, кто сидел за мной, было слишком страшно. Вот очень яркий пример, что такое сострадание. Действительно, можно глазами увидеть душу человека и передать: «я с тобой».
Недавно у нас умирал умный пожилой человек, кажется, юрист, Виктор. Когда мы встретились, он глазами мне показал: «Я хочу умереть». Я ему глазами же ответила: «Если вы хотите, мы вместе помолимся». Он хотел.
Если нет защиты, мы можем три минуты быть с человеком и глазами передать: «Я тебя увидел», – и человек будет об этом знать. Проблема в большом количестве людей и малом количестве времени, но я бы посоветовала научиться этому, хотя это нелегко, потому что стопроцентно быть с человеком – значит, отвлекаться от себя, чтобы не было ненужных чувств, ненужных мыслей: «У меня планы на завтра, а дома меня ждет жена, а еще я должен сделать это…». Ничто не должно стоять между мной и человеком. Когда мы сидим с умирающим человеком, от нас требуется именно это, хотя так бывает редко. Это и есть состояние молитвы.
Итак, если мы хотим сострадать, надо иметь открытое сердце и быть готовым самим быть раненым, уязвимым. Цитирую слова владыки: «Часто мы защищаемся внутренне, только бы не отозвалось сердце, чтобы через сострадание чужая боль, беда, мука не потрясли нас до изнеможения. Но другого пути нет, если мы можем строить человеческие отношения, которые были бы достойны нас самих и достойны Бога». Можно спрашивать: что делать, когда сердце наше закрыто или полуоткрыто? почему это нужно? Есть книга владыки Антония «Человек перед Богом», там он много говорит про воспитание сердца. Владыка в ней сравнивает наше сердце с кораллами. Кораллы в море – очень хрупкие существа. Вокруг себя они имеют панцирь, чтобы ничто не могло затронуть их. Так и мы: «Мы закрываем сердце наше, как и кораллы, если мы защищаемся от боли, от страдания, от ужаса и страха того, что над нами может совершить чужая скорбь, чужая болезнь, чужая смерть или в совокупности весь ужас земной жизни. Мы остаемся защищенными и вместе с этим внутренне умираем. Чтобы воспитать свое сердце живым, надо перед собой поставить острый вопрос: готов ли я допустить в свое сердце любое страдание? Готов ли я сострадать любому человеку, которому больно, страшно, холодно, голодно, который ранен жизнью каким бы это ни было образом, не разбираясь, прав он или нет?»
И он так жил. Ему было неважно, верующий человек или неверующий человек. Неверующему человеку он еще больше хотел помочь, как находящему вне Царствия Божия.
Владыка говорил мне, что когда человек не знает Бога, находится в грехе – это как болезнь. Когда человек болеет, сострадать ему легче. Если я даже устала, если мне не хочется ничего делать, но у человека есть во мне настоящая потребность, можно забыть про себя. И когда человек, находясь во грехе, агрессивен, не нравится тебе – надо научиться смотреть на его состояние как на болезнь и принимать этого человека так, как принимаешь больных.
Представим себе, что у нас нет защиты, мы уже осознали, что наша смерть существует, у нас есть критерий сострадания как части жизни. Теперь мы можем научиться пребывать с человеком. Владыка это всегда умел. Он умел просто сидеть. Он приводил мне один пример. Был человек, сумасшедший, его мама приходила к владыке и говорила: «Я не знаю, что с ним, я не понимаю, что он хочет сказать». Владыка говорит: «Я к нему приду в психбольницу». «Я шесть дней сидел молча, – рассказывал он (он наверняка и молился, но об этом не говорил), – рядом с этим человеком, который никогда ни с кем не говорил, не умел раскрыть рот и сказать словами, что лежит на душе». В конце концов этот человек вдруг спросил: «Почему вы здесь сидите и молчите все время?» Это было начало его выздоровления.
Вы, наверное, читали: когда человек умирал, владыка мог ночью сидеть с ним, чтобы он умирал не один, потому что умирать одному большинству людей страшно. Я помню, однажды у меня очень болела спина. Я не умирала, но мне хотелось просто человеческой теплоты рядом. Может, и у вас тоже есть такой опыт, когда очень страшно, очень больно, и надо чтобы кто-то был рядом. Важно знать что когда человек умирает, даже если он в коме, он все слышит и понимает. Это необходимо донести до родственников, потому что часто они говорят: «Зачем здесь быть? Он все равно ничего не понимает». Это не так, он слышит даже больше, чем обычно, и быть рядом с ним крайне важно – берите его за руку, чтобы он знал, что вы рядом. С ним надо быть до конца.
Больной все слышит!
Пребывать с умирающим – это действительно не думать своими мыслями, не жить своими эмоциями, а быть здесь и теперь. Если вы умеете это, об этом надо говорить с родственниками. Они часто говорят: «Что делать, если он умрет? Как быть с похоронами» – а он лежит еще живой. Во-первых, он лежит и всё слышит. Мы можем выйти в коридор или сад и обсудить всё, но это все равно будет говорит о том, что родные уже живут в будущем, а не здесь и теперь, когда близкий и родной человек еще жив. Стоит напоминать родственникам больного: «Мы поговорим об этом, когда это случится, мы будем вам помогать, но сейчас будьте на сто процентов с больным».
Однажды у нас лежал больной мужчина. Было лето, и мы вывезли наши кровати на улицу. Там с умирающими сидели родные. И вот жена этого человека плачет и плачет: «Что ж он умирает, как я буду?..» Я сказала ей: «Он еще жив. Читайте ему книгу, которую он любит, и будьте вместе. Потом уже будем об этом говорить». Это так просто! И она сидела, они действительно были вместе до самого конца. Потом уже мы помогли ей с похоронами.
Американский психолог Стивен Линн приводит очень интересный пример. Он обучал медсестер, работающих в паллиативной терапии. Одна медсестра сидела в углу, рядом с умирающим и говорила: «Какой глупец! Он даже не знает свой диагноз, он не хочет ничего знать!» Больной был в полукоме, но он открыл глаза и сказал: «Пусть этот человек уходит, я не хочу, чтобы она была рядом». Другая медсестра села рядом, вместе с родственниками, и подумала: «Как мне его жаль! Хоть бы помочь! Не знаю, как, но хоть что-то сделать для него». Он снова открыл глаза и попросил: «Пусть она будет со мной, мне с ней хорошо». Это говорит о том, о чем говорил и Иоанн Кронштадтский: наши мысли – это уже реальность. Действительно, наши мысли передаются, особенно больным, которые становятся очень чуткими.
Нет суете
Крайне важно научиться видеть человека, когда ему плохо душевно, физически или духовно, побыть с ним, пока на душе не стало легче. Еще один пример. Во время одной беседы в соборе с владыкой у меня на душе было очень тяжело, и я хотела как можно быстрее удрать и быть дома. Владыка как-то уловил это состояние моей души. Надо сказать, он никогда не болтал. Я бы не назвала его речь всегда серьезной, но он никогда не болтал. Увидев, что мне плохо на душе, он сказал: «Давайте сядем», - посадил меня рядом с собой, и – я даже не помню, о чем говорил. Просто говорил, говорил и говорил, а потом в один момент сказал: «До свидания». И только спустя несколько часов я поняла, о чем шла речь – это был такой ясный пример: когда ты видишь, что кому-то плохо, будь с ним, пока ты не увидишь, что ему становится легче на душе.
Я думаю, что этому можно научиться. Особенно часто женщины суетятся как курицы вокруг умирающих мужчин, и, мне кажется, очень тяжело для мужчин, когда вокруг все время так беспокойно. Стоит побыть с человеком, говорить, почему так страшно – просто быть с ним, просто улыбаться или просто рассказывать что-то. И уходить, лишь действительно прочувствовав, что ему легче.
Я всегда с ужасом и с болью смотрю на то, что происходит в хосписах. Это не критика, но это говорит об общем состоянии нашего сердца. Привозят человека: метастазы в легких, сильная одышка. Приходит лечащий врач, смотрит на него, слушает, все как надо, и говорит: «Да-да, вам плохо. Давайте я попрошу медсестру поставить вам укол, чтобы легче было дышать». Он уходит, приходит медсестра, дает предписанный укол, тоже уходит. А я, так как я долго слежу за больными, вижу, что происходит на самом деле. Человек задыхается, ему сделан укол. Но одышку очень тяжело переносить, ему еще и страшно! Если бы рядом с больным был кто-то, ему бы не было страшно – и он бы расслабился, дыхательный процесс раскрылся бы физически, и он бы так не задыхался.
То же самое, если кому-то больно, недостаточно сказать: «Мы сделали всё и идем дальше». Это очень не чутко – не быть с человеком, когда ему плохо физически, душевно или духовно. Я говорила про защиту врачей за ролями. Они никогда не сидят с умирающим человеком: они приходят, видят, что ему плохо, измеряют давление, хотя видят, что оно низкое, но все равно проверяют – да, низкое давление, времени осталось мало. Но посидеть с человеком времени нет.
Это не критика, это скорбь. Потому что если с больным человеком была Встреча – то как ты можешь оставить его, когда ему плохо, когда он умирает? Но само собой разумеется, что врачи с больными не сидят. Даже медсестры меньше сидят. Это тоже защита. Может быть, они устают.
Но человек умирает единственный раз. Его смерть уникальна. Я советую вам читать Виктора Франкла, он писал об этом.
Когда есть любовь, можно страдать
Иногда меня спрашивают меня: «Что делать? Я не знаю, что сказать больному, как быть с ним? Мне страшно». Владыке тоже задавали этот вопрос, и он говорил: «Если у меня нет слов, нет знания, умения, но у меня есть ласка и тепло, я могу ими поделиться. Если не искать умных формулировок и доводов, а просто пожалеть и приласкать, все сделано».
Мы уже говорили, насколько важно найти свою позицию, что значит для меня лично страдания, умирание и смерть. Страдание само по себе не приносит пользу, а только когда человек вырастает в полную меру своего призвания, то есть если страдание имеет для меня лично некую задачу. Владыка говорит: «Когда есть любовь, можно страдать». Конечно, имеется в виду любовь ко Христу. Когда человек не может перетерпеть болезнь – это обычно говорит, что у него нет смысла. Если мы сможем помочь ему найти смысл в страдании, ему будет намного легче жить до конца.
Виктор Франкл жил и работал в Вене перед Второй мировой войной. Он был евреем и оказался в концлагере. Он был невропатологом, психиатром, психотерапевтом, и это ему помогло выжить. Он наблюдал, как люди выживали или не выживали в концлагере, и создал философию логотерапии. Мне нравится, что он ее не сочинил в кабинете, а прожил ее сам, в жуткой обстановке лагеря. Итак, он пришел к выводу, что в конечном итоге важно наше отношение к происходящему и тем более – к неизбежно происходящему, то есть неизбежному нашему концу. Мы уникальны, говорит Франкл, поэтому страдающий человек получает смысл: «Ты уникальный человек, и только ты можешь так научиться страдать».
Последний вопрос для Франкла – не что я могу взять из жизни, но что я могу еще дать жизни.
Больные часто говорят: «Ну, что ж, я ничего не могу делать, я уже никудышный». И перед нами стоит задача сказать им: дело не в том, что ты еще можешь взять, а в том, что можешь давать.
Франкл говорит, что если есть вообще смысл в жизни, тогда должен быть смысл и в страдании. Владыка говорит о болезни и страдании так: «Мне думается, что болезнь и страдания нам даются от Бога, чтобы мы могли освободиться от привязанности к жизни, которая нам не дает возможностью глядеть в будущее с открытостью и с надеждой. Осмысление страдания – это вызов нам. Только Он может так вызывать. Станем же чистыми духом и душой так, чтобы всякая душевная боль или страдание тела было плодом не смерти в нас, а нашего единства со Христом». Для него важно, даже в кризисе страдания и боли, не замыкаться, чтобы это был путь, приближающий ко Христу.
Я вспоминаю сейчас слова другого узника концлагеря: «Самое важное время для меня – когда я был в концлагере, потому что никогда Господь не был так близок ко мне».
Я думаю, что болезнь также дает нам осознание нашей хрупкости и беззащитности. Недавно я видела в четырехместной палате четырех мужчин с опухолью мозга. Они уже не могут говорить, как раньше, они уже не могут кушать… Может быть, это были крупные люди, профессионалы, а сейчас они лежат как дети. Всего лишь одна болезнь – и мы становимся совершенно беззащитными. Мы можем научиться жить здесь и теперь и сострадать, потому что этим лежащим могла бы быть я или могли бы быть вы.
Пребывание с умирающим связано с молчанием. Молчание крайне важно для владыки Антония. Он повторял: «Цель молитвы – это молчание перед присутствием Божиим». Но то же молчание – в присутствии страдающего человека. Владыка говорит: «Молчание – это не только состояние, в котором мы не употребляем слов, не производим звуков речи. В основе молчания – внутреннее состояние, когда мысли улеглись, сердце умирилось, воля устремлена в одном направлении. Без колебания этому можно учиться в любой обстановке. Больше всего помогает, и научиться этому трудно, способность сесть и пребывать в полном покое. Не спешите, вы совершенно присутствуете. Я ничего не могу делать, кроме того, чтобы прийти, сесть и ждать: что будет, то будет, и это будет на пользу. Иногда я вижу, как это просто быть с человеком, и пусть он сделает, как хочет. И ничего не надо, просто быть с человеком».
Я хотела вернуться к понятию страдания. Люди задаются вопросом: страдание – это всегда зло или нет? Часто я вижу родителей, которые потеряли своих детей. Кажется, хуже не может быть – потерять своего ребенка. Побыть в таком случае с родителем – тоже нелегкая задача. Но через несколько лет, когда в фонде «Вера» собираются родители, они почти все говорят о том, что смерть ребенка дала толчок к переосмыслению ценности жизни и какой-то очень позитивный плод – они стали помогать другим мамам и отцам, потерявшим ребенка, и теперь живут совсем по-другому. Поэтому, я думаю, не стоит говорить, что страдание и смерть – это только зло.
Родители говорят, что благодаря смерти, мы учимся, если мы готовы к этому, жить глубиной, жить с напором, жить не поверхностно, но знать, что каждый миг имеет свой вес. Потому что если мы знаем, что человек рядом со мной может умереть завтра, каждая «мелочь» становится очень важной. Я думаю, что мелочи важнее даже чем большие поступки, когда мы лицом к лицу с человеком, который стоит перед переходом.
Встреча и доверие
Для владыки была очень важна Встреча. Встреча может состояться только если нет защит, если мы умеем жить здесь и теперь. Когда вы как священник, как соцработник или медсестра встречаетесь с новым человеком, постарайтесь узнать, кто он, какова его картина жизни, кем он работал. Первая встреча – чтобы человек знал, что он для вас важен, и тогда возникнет доверие. Если есть доверие, то человек может раскрыться и говорить о том, что его тревожит. Если он видит, что вы не очень интересуетесь им, он никогда не будет говорить о том, что лежит на душе.
У нас лежал Дмитрий, ему было сорок с лишним лет. У него была опухоль в позвоночнике, и он не мог ходить. Он лежал два месяца в одноместной палате, все было как будто хорошо. Его жена приезжала вечером после работы, пила с ним и с медсестрой чай, и медсестре это было очень приятно, потому что было как будто весело.
Однажды вечером Дима мне говорит: «Фредерика, я хочу покончить с собой». Я ответила: «Но, Дима, это не решение вопроса!» - и ушла. Через несколько дней он мне говорит: «Фредерика, я больше не хочу покончить с собой». Я с интересом спрашиваю: «Что случилось с тобой?» Он не был очень набожный человек, но он сказал: «Бог мне показал, что у меня есть задача». Я снова спрашиваю: «Какая?» «Он мне показал, что я буду встречать тех, которые приходят сюда после меня».
Верьте, не верьте, но этого смысла, этого осмысления его страдания, было достаточно, чтобы он больше не хотел покончить с собой.
Второй пример, который мне очень-очень запомнился. Лежал у нас в четырехместной палате Николай, простой рабочий. Я его не знала, но он почему-то знал мое имя. Однажды он говорит: «Фредерика, дайте мне укол». – «Николай Николаевич, чтобы вас убить?» – «Да, я больше не хочу жить». – «Нет, этим мы здесь не занимаемся», – ответила я. Он вздохнул. Я спрашиваю: «Вас зовут Николай. Вы знаете вашего покровителя Николая Чудотворца?» Он смотрит и говорит: «Знаю». «Если вы знаете святителя Николая, - советую я, - если вы действительно готовы и телом, и душой, тогда попросите, чтобы он стал вашим заступником, чтобы Господь взял вас к Себе. Говорите с Богом. И я тоже буду за вас молиться». И мы расстались.
Через два дня он умер своей смертью. Я не говорю, что святитель Николай – это заступник эвтаназии, но это говорит о том, что этот Николай не просто лежал и ждал, что будет, а у него была задача, какой-то смысл. Человек должен найти смысл! Мы не можем дать его, но можем помочь ему этот смысл найти.
